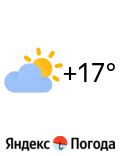Старые люди. Рассказывает Тамара Григорьевна Крючкова.
В селе нашем Протасово стоял дом на дому, колхоз организовали «Красное солнце», а рядом — «Искра». Девичья фамилия моя — Калугина. Семья была большая: родители, бабушка, трое детей, двоих мама схоронила. Я закончила 6 классов, осенью было пошла в 7-й, а тут война.
Мы молотили тады, когда немцу притить. Урожай собрали, разделили по людям по копне, а в ней 52 снопа. Молотим, и тут загыргыкали — немцы пришли, полна деревня на лошадях, мотоциклах, орудия через неделю привезли. Начали квартиры намечать. А мы только построились, даже покрасить не успели. У нас поселились офицеры и денщик. И нас всех загнали на печку. Мы с бабушкой вчетвером на печке, отец приделал с боку нары, и они с матерью на этих нарах жили. Как натопют немцы, дверь открывали, а нам на печке дыхать нечем. А у нас мальчик с 41 года был, только начал полозить. На печке жара, он кричит. Выпустили его по полу, бабушка присматривала, мальчик заплакал, а денщик кинул в него банку консервов и попал в грудь. Мальчик закатился, думали, что помрет. Немцы взяли его, положили на стол и дали какую-то таблетку. А что еще делали, не помню. Денщика отругали, сказали нельзя так, дитё ведь, не понимает ничего. И мальчик отлежался, вечером есть запросил.
Всю зиму староста гонял нас чистить дорогу. Свой был, деревенский, идиот. Его немцы назначили. Очень тяжело было. Все работали, старые и малые. Летом опять чистили дорогу, чтоб травинки нигде видно не было. А мы дети, классики понаделаем и прыгаем. С нами работал дедушка Ершов. Он видит, что мы играемся, а работа не идет и хворостиной нас под задницу.
В августе 42-го нас угнали под Дросково на окопы. Собрали полную машину, матери устроили голосьбу. Привезли нас в Никольское, расселили по квартирам. Ходили мы к немцам в столовую, давали, что сами не доедят. Буханочку хлебушка дадут на троих, она такусечкая, ниточкой делили, чтоб кому лишнее не отрезать.
Потом нас отвезли в Морозовку. Председатель колхоза выдал зерно, мы его на крутилках мололи и пекли. В Морозовке мы работали по ночам. Окопы рыли ужас какие, наверное, метра по два в ширину. Ночью белый платок не надень, лопату кверху не подними. Пойдем вечером работать и слышим — везут наши русские кухни, а баки друг об дружку звякают, и поют солдаты «Катюшу», мы даже плакали. Рады были русских хоть не увидеть, но услышать. Немцы-то все гыргыкали, мы их и не понимали. У нас на десять человек патруль был, не сбежишь. От голода мы по огородам ели капусту сырую и свеклу. Потом нас привезли в Малоархангельск. А дело к осени, холодно, мы до дома на рысях бежали.
Зимой 43-го нас бомбили. Бабушка брала ребят и ходила в колхозный подвал, туды в колхозе картошки ссыпали и в этот подвал ходили старые и малые хорониться. Там три секции и немцы с нами сидели. Уже и бояться устали, думаешь, убьют, хоть бы сразу. 23 февраля утром шли двое немцев, у одного ведро с бензином, у другого — палка с паклей. Окунает в ведро и под крышу, а крыши, погребки соломенные. Все загорелось. У нас была корова спрятана, она в сене в погребе стояла. А когда немец пошел жечь деревню, мы корову вывели, сами спрятались. Она скоро бы отелилась, вымя было уже большое, немцы корову и забрали, попросили у матери верёвку, чтоб ее обратать и привязать к саням. А корова как заревёт.
Мать говорит: какая верёвка, где её взять, пожгли всё. Но побежала к своему отцу. Он вынул из лаптей оборочки и ей отдал. Мать принесла эти оборочки немцу, а он как начал её ими стегать по голове, лицу. Винтовку наставил, мы орём. Немец поставил мать к стенке и выстрелил, но взял выше, её не задел. Мать упала, мы криком исходим. А немец берёт мать за волосы, поднимает и опять ставит. И так до трёх раз.
Подъехал другой немец на санях, обратал корову и повёл. Она оборачивается на нас и мычит. Зима, скользко, корова упала, раскорячилась. Немец ударил её прикладом, корова встала и пошла.
Поселились мы на картошке, перины спасённые из дома положили, так и жили. Ребятишки там оправлялись и всё делали. Отец в это время зачем-то ушел в Васильевку, тут недалеко. В Васильевке у него была сестра, заболела она что ли. Отца угнали оттуда в Белоруссию, а когда наши освободили Белоруссию, он попал в рабочий батальон.
Рано утром немцы узмыкались отступать. Глядим, идут в зеленых шинелях, пилотках, мы думали опять немцы и бежать. А они кричат:
— Мы же русские!
И правда, красные звёздочки на пилотках. А в Тросне, тут рядом, немец как осел, так и остался. К весне началась бомбёжка и нас начали эвакуировать. Мы попали в Упалое. Везли на лошадях, а целый день шёл дождь. К Удеревке подъехали, там гора, лошадь вперёд двинется и назад, вперёд и назад. Думали ход перевернётся. Старший мальчик сидел на возу, а того, что помладше мама завернула в одеялку: неси. И так тяжело мне было, что я взмолилась: и чего ж я так мучаюсь, хоть бы ты помер. И с тех пор как этот братик в 35 лет разбился на мотоцикле, оставил жену, двоих детей, я каждый день думаю, неужто моя молитва дошла до Бога, неужто это я виновата.
Освободили нас 5 августа. Бабы собрались и пошли в Протасово. А тут только школа, домов нет, все перерыто, блиндажи и окопы. Бойцы лежали, а мы их не боялись. Спали поначалу на траве. А дело к осени. Обозрели блиндажи, недалеко от нашей усадьбы нашли один. Дедушка сложил печечку. В блиндаже было неплохо, брёвна, всё облагорожено, но очень тесно. Весна подошла, снег тает, в блиндаже вода. Мы на печке от неё спасались. Ели траву, ходили в Васильевку. Там жители были эвакуированы, и в погребах осталась картошка. Её приносили и ели. Да ещё зерно на крутилках мололи, что в Упалом заработали.
Не дай Бог война. Всё можно пережить, но не её. Война и пожары всё подбирают. А мы молодые, и на улицу хочется. Я так и берегла чёрную юбку да кохту белую. Мелом намажем ноги, вроде как в тапочках и идем. А потом напляшемся босиком, пятки горят.
Мать ездила в Белоруссию за хлебом. Те тряпочки, что ещё остались, меняла. У меня было темно-синее шёлковое платье, ни разу его не одела, мать за него хлеба привезла. А сейчас гляжу на свои шкафы забитые и думаю, куда мне, и халаты все поносить не успею, в те годы бы это добро.
Весна подошла, начали землю копать лопатами, уся земля была изрыта. А народу много, бывало по сто человек деревенских в ряд становились. И копали, и сеяли, скородили граблями, окопы зарывали, косили косами и старые, и малые, ещё и вязали при этом, скирдовали. Снопы носили на двух длинных палках. Тяжело было.
А мы с матерью ещё и дом строили. Брёвна из блиндажей на тачке навозили, дубовые. Раза по два до работы успевали съездить. На дом навозили, а строить некому. Два дедушки с Красного Ржавца согласились Гусёнок и Калугин. Придут к матери:
— Самогонка есть — работаем.
Поставили они нам фонарь, приезжий человек, был тут один, помог забрать крышу. Мы глину на тачке, воду на руках, сложили печку. Ящиками топили и лесом из блиндажей.
И жизнь свою вспоминать неохота.
Поставили меня звеньевой. С подругой на вечеринке напляшемся, утром спать охота, а бригадир Василий Максимович Матюхин будит: девки, пора вставать, наряды давать. А кто где живёт, пока всех с этим нарядом обегаешь.
В колхозе ничего и не платили. И мы ушли человек шесть девок копать торфу в Приволье. Там декаду проработаешь — пять метров ситцу и паек на месяц – 3 кг пряников и 3 кг молоки рыбьей, сухарей, когда как. Я за месяц 15 метров ситца получила. Замуж собиралась, мать и одеялок настегала. Простыней у нас не было, постилки только и пододеяльников никаких. Вот жили как. С тем я замуж и вышла. Муж мой Николай Прокофьевич Крючков был очень хороший человек, работящий.
Я в колхозе была в полеводстве. С пенькой мучались, а потом свёкла началась — ещё лучше. Убирали её лопатами, копали, возили. Надорвались на ней. На другой год её уже плугами распахивали, а мы, бабы, в кучки её кидали. Потом уже трактора начались.
Так мы и жили. И вспоминать эту жизню неохота.
Каждый год я прихожу на 9 мая на памятник в Протасово. На двух палках пока-то доковыляю, но иду. Ведь там защитнички наши похоронены.