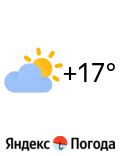Вспоминая войну
Сергей Яковлевич Болотин проживает на станции Малоархангельск. Держит козу, ухаживает за огородиком и пишет поэму-предостережение о возможности новой войны. Он знает, что такое война и рассказывает о ней.
— В 1910 году мои родители только поженившиеся, уехали в Гурзуф. Отец был садовником, хоть и самоучкой, но хорошим. Домой вернулись, когда началась 1-я мировая война. Отец умел почти всё: пчёл развёл так: срубил дом пчеловоду и тот отблагодарил его двумя колодами пчёл. Отец выписал книгу по пчеловодству, начал вести дело по науке. На станцию Поныри мы перебрались в 1939 году. До 38-го года отец работал в школе инструктором по труду, потом председательша колхоза, помня о том, что он хороший садовник, переманила его в колхоз. Председательша вовремя на трудодни не выдавала зерно, отец с ней поссорился и уехал в Серпухов, а нам отрезали землю под порог, пятнадцать соток отхватили. Война началась, а у нас на огороде сплошной бурьян, лишь в серёдочке, чтоб было не заметно, мама сажала лук.
В оккупации мы прожили пятнадцать месяцев, с 17 ноября 1941 по 9 февраля 1943. Дом у нас был большой: 17х9, да и семья немаленькая, родители вырастили 11 детей. Старший брат Андрей родился в 1909 года, а я, младший, с 1931-го. Племянники оказались старше меня.
Брату Володе было 17, когда он добровольно ушёл на войну, сражался здесь, на Вавилоновке, на 1-й линии обороны. На его счету 17 немцев, последнего прикончил 18 мая под Прагой. Войну он прошёл без единой царапины. Раз уж начал про братьев, то расскажу обо всех. Андрей, лётчик, погиб под Ленинградом. Василий, с 13 года, артиллерист, служил с первого дня войны, был дважды ранен. Под Старой Русой бил в упор немцев, и над ним разорвалась шрапнель, одиннадцать осколков попали в спину. Василий воевал до конца войны, умер в возрасте 82 лет в Одессе. Иван с 15 года, сгорел в танке под Смоленском. Жене пришла похоронка, а где могила Ивана, мы так и не узнали. Сестра Анастасия (после войны она поменяла имя на Антонина) закончила медицинский институт, работала врачом в госпитале, и своему будущему мужу хотела отхватить руку, но он не соглашался. А когда вылечился, предложил пожениться. Он любил играть на аккордеоне, и каждый раз, как растянет меха, говорил сестре: а помнишь, как ты мне руку оставлять не хотела?
За месяц до прихода немцев на Поныри руководство района отступило. Со стороны Курска 17 ноября 41-го года мы увидели извивающуюся чёрную ленту — шли вражеские солдаты. Они выгребли всё: зерно, картошку, лук. Уходя, наши подожгли заготзерно, мы носили обгоревшее зерно домой. Но помолоть не успели — оно пошло на корм немецких лошадей. Накопали ящик картошки на колхозном поле, а немец вытащил и забрал.
В оккупации нас, младших детей, было трое, Володя, Кузьма и я. Ели, что Бог пошлёт. Недалеко от Понырей в д. Берёзовец (там немцев не было) жила родня матери и отца, мы к ним так и ходили. У отца было семь сестёр, сегодня к одной придём, завтра к другой, на неделю хватало. Володьку чуть не угнали в Германию, спасибо, спас староста. Вовку поймали и привели на комиссию, староста вошёл, увидел его да как закричит: «Ты что здесь делаешь? Не знаешь разве, тебя на работе ищут. Расстреляют ведь дурака»! И выгнал Вовку с комиссии. Вовка огородами удрал к тёткам в Берёзовец. Немцы пока то да сё, пришли за братом: мать пластом от горя лежит — Володьку в Германию угоняют и знать ничего не знает. Так брат и бегал в Берёзовец и назад, прятался и добегался — простыл. Лежал на печке грелся. Пришёл немец, он собирал народ на снегоборьбу, и одно заладил: арбайтен. Мать было пробовала объяснить, мол, болеет сын, я за него пойду, но немец её поленом огрел и опять: арбайтен. Пришлось Вовке идти работать. В 42-43 годах метели выли по несколько дней, снегу насыпало много, он был таким плотным, что пацан пройдёт и не провалится. Чтобы дороги меньше заметало, резали деревянные брусы и ставили их вдоль дороги, но это мало помогало. Как ни странно, эта снегоборьба вылечила брата.
До войны отец водил пчёл и четыре колодки успел отнести к тёткам. Мёд мы меняли на соль. И скоро поняли, что к немцу с мёдом лучше не подходить — отнимут и взамен ничего не дадут, австрияки за стакан мёда давали стакан соли. А за соль в те годы можно было достать всё. Даже ящики из-под соли ценились: их рубили и кидали в борщ.
В Берёзовце немцы не жили, они приезжали на санях за провизией. Деревенские всегда были начеку. Ещё немцы не подъехали, а слух бежал от дома к дому. Кур, поросят привязывали к салазкам и скатывали к речке. С коровой было сложней, её не спрячешь.
В войну, когда участь родных была неизвестна, многие женщины обращались к гадалкам. Мама была свято уверена, что лучше всех гадают сербиянки. В первую мировую отец служил в Мурманске, и мама ходила к сербиянке гадать. Та сказала, что дела службы не позволяют ему пока приехать, но через месяц он вернётся. Мама домой прибежала окрылённая. Последующие события подтвердили правоту гадалки. Другого способа, кроме гадания, узнать о судьбе близких не было. Во время оккупации почта не работала, и когда на Понырях появилась сербиянка, мама пошла к ней. Домой её вели под руки. Мама упала на кровать и не могла подняться от горя: гадалка сказала, что три сына погибли. А они хоть и ранены, но были живы.
Во второй половине нашего дома жили немцы. В доме ещё с тех времён, как мы сдавали часть заготконторе, была выделена комнатка. Её выпросил заведующий Яков Борисович, чтобы складывать документы. Комнатка была изолирована, имела отдельный вход.
Седьмого февраля со станции Курская от д. 2-е Поныри вышли три 34-ки. Перед нашим домом стояла гаубица, ещё две у соседей. Две гаубицы били по нашим танкам, мы видели, как рвутся снаряды, но в танки не попадали. Вдруг около дома раздался взрыв, бегут немцы, кричат: «Вилли капут!» Они сразу поняли, что убили Вилли, потому что он был не в сапогах, как другие немцы, а в бурках. Так эти бурки перелетели через дом и упали недалеко от убежища, которое выкопал отец. Второй снаряд попал в угол соседнего дома. Немцы ушли, увезли пушки, а вечером явились новые немцы. Немцы зимой в своих шинельках страшно мёрзли, отнимали у женщин шубы, шапки, тёплое бельё. На шапки мы пришивали лоскутики, тряпочки, чтобы враги думали, что шапка старая. Новые немцы были совсем по-другому экипированы: в куртки, ботинки добротные тёплые. У одного офицера был свитер с оленями и диковинная для нас вещица: карманные часы. Когда он открывал крышечку, то даже через перегородку мы слышали мелодичное звучание. Окна в доме немцы повесили на петли, чтоб открывались. И этот здоровый немец из окна бил по нашим ребятам из крупнокалиберного пулемёта. Мы видели, как они падали. Они почему-то шли без маскхалатов, очень тяжело было на это смотреть.
Во время бомбёжки мы залезли в свою щель-убежище. Вечером перебежали к соседям в погреб. Брата моего Володю немцы заставили на лошади подвозить снаряды. Ему удалось сбежать. Он сунулся было к соседям. В доме осталась только старая бабушка, она сказала, что все в погребе. А в нём сидели соседская семья да наша, да хозяин погреба. А я, Сергей- воробей, на лестнице, пристёгнутый ремнём, чтоб не свалился. На лестницу меня посадили за провинность: невзначай толкнул керосиновую лампу в бочку с огурцами. И, хотя огурцы спасли, я был наказан.
Утром отец крикнул: наши пришли! Мы высыпали из погреба, увидели советского солдата и начали его обнимать.
Около нашего дома стояли сани, лошадь немцы увели, окна в доме завешаны одеялами. В доме начали размещаться наши солдаты. Мать принялась топить печь, я залез на лежанку, ждал, пока нагреются кирпичи. Я уже рассказывал, что для директора заготзерна мы делали комнатку. Вход в неё был отдельный. Но через переборку за печкой тоже можно было попасть туда. Не знаю, что пришло мне в голову, но я выбил фанерку, как воробышек перебрался на полочку, куда Яков Борисович клал документы, пролез по ней. В комнате было полутемно, на столе стояла пятилинейная лампа, лежал коробок спичек. Под ногами скрипели рассыпанные патроны, я прошёл в другую половину дома, туда, где жили немцы. За плитой-голландкой был стол, рядом два картонных ящика. Я быстро отодрал крышки. В одном были мятные конфеты, в другом — бутылки со шнапсом. Я начал набивать карманы конфетами, услышал, как хлопнула входная дверь. Кто-то подошёл к двери, взялся за ручку и только тут, опустив взгляд вниз, в полумраке я увидел связку гранат, шнур тянулся к двери.
— Не открывай, — закричал я.
Солдаты потом меня чуть на руках не носили, за свой второй день рождения. Потому что в комнатке нашли ещё взрывчатку — весь дом бы разнесло.
В конце февраля начальник штаба сказал отцу:
— Ты свой дом не спасёшь. Видишь, как самолёты на бомбёжку заходят — твой дом для них ориентир. Давай-ка уходи отсюда, здесь будет хорошее пекло.
Мы уехали в Берёзовец в дедов дом, к младшей сестре отца, она перебралась к другой сестре. И больше в свой дом не вернулись. Отец очень горевал, ведь он сам его строил, крыл, делал рамы, стелил полы, стеклил.
А 14 июля 43-го брат Кузьма ходил в посёлок и увидел только воронку. Когда взорвали наш дом, мы не знаем. Перед июльскими боями мы уехали теперь уже из Берёзовца — всех эвакуировали. Помню эти бои. От горизонта до горизонта семь дней стояла чёрная туча. Солнце едва пробивало эту черноту. Стоял гул. Жара была невыносимая. Мальчишки везде лазили, вот и мой брат Кузьма бегал в Берёзовец, Поныри, потом рассказывал, что немцев били наши катюши. Убитых советских солдат не было видно, а немцы лежали. Их уже после освобождения находили в полях, в оврагах.
В конце июля мы вернулись в освобождённый Берёзовец. Отец из блиндажей строил дом, но уже вполовину меньше прежнего. Потом мы перевезли его в Поныри.
Началась мирная жизнь.
Маша Никитушкина