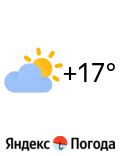Тамара Константиновна Ермакова: нас называют — дети войны
— Мама умерла, когда мне исполнилось всего полгода. Отец и младший брат заболели тифом, и маме сразу после родов пришлось не только ухаживать за ними, но еще и работать на огороде. Как-то разгоряченная мама вернулась с огорода, напилась холодного молока и заболела водянкой. Вместе со мной у родителей было шесть детей. Отец очень переживал, все повторял: «Что я с этой крохой буду делать? Ни перепеленать не смогу, ни искупать, ни накормить. Она у меня умрет».
В п. Онегино жила моя тетя Ретюнина Ефимия Семеновна. Собственных детей она не имела, а растила сироток, до меня вывела в люди двух братиков и сестричку (братья потом погибли на войне). Тетя забрала меня к себе и дала мне свою фамилию. Она растила меня до 23 лет, и я всегда считала ее своей матерью.
Мама, я так и буду назвать тетю, была строгая, требовательная, с детства приучала меня к труду.
Война началась, когда мне было семь лет. Зимой 43-го всех жителей поселка выгнали, погрузили на сани и повезли в Глазуновку. Сбежать не было никакой возможности, рядом немцы, да и с детьми не больно-то убежишь. С нами ведь были еще две девочки — дочери маминой падчерицы. Мороз трескучий, дыхание от холода перехватывает, звезды так и сияют, а нас везут неведомо куда. Из Глазуновки, отправили в Белоруссию, наша семья попала в Гомельскую область д.Лебечаны. Поселили к одной семье, в которой были двое детей: мальчик и девочка. Хозяева приняли нас очень хорошо, особенно привязались ко мне. Они говорили маме: оставь Тамару у нас. Кто знает, что тебя ждет впереди. Адресами обменяемся, после войны, если будем живы, разыщем друг друга. У меня вместо радости, на душе было одно горе. Как подумаю, что мама меня оставить хочет — обливаюсь слезами. Убегу куда-нибудь на край деревни, сяду в овражек, чтобы никто не видел и реву. А падчерицыны дочки Лена и Таня, увидев меня, начинали кричать и дразниться: тебя мамка бросит, а нас нет.
Мне от их слов еще горше делалось. Я сказала маме: «Спать буду ложиться, тебя за рубашку возьму и не отпущу. Начнут немцы нас выгонять, я так в тебя вцеплюсь, не оторвешь. Я по тебе день и ночь плакать буду, лишь, когда усну, успокоюсь». Мама заплакала: «Тамара мне такие слова сказала, что я всегда их помнить буду. Уж если помрем, так вместе». Не отдала меня. После войны мы получили известие, что в семье наших хозяев дети умерли от какой-то болезни.
Нас привезли в лагерь в Латвию. В казарме стояли трехэтажные нары, вшей, клопов, блох полно. С нами была мамина сестра тетя Поля. Она была верующая и все время поддерживала нас, говорила: «Молитесь Богу, он нас не оставит, с Его помощью все переживем».
Потом была Германия. Помню очень красивый вокзал. Нас выгрузили из товарняка, оборванных, грязных, в лаптях, люди идут, оборачиваются и одну и ту же фразу произносят. Я ее запомнила, позже спросила у учительницы немецкого языка. «Грязные свиньи», вот что про нас говорили чистенькие немцы.
Повезло тем, кто попал к хозяевам, их кормили хорошо, и жили они в сносных условиях. А с детьми брали неохотно. Мы опять попали в лагерь. Народу пропасть! С каких областей только не было, со всей нашей России. Кормили плохо, варили брюкву, весной она уже гнила и от похлебки шел такой отвратительный запах, что даже мы оголодавшие, не могли ее есть. Хлеба давали по маленькому кусочку, мы его проглатывали, даже вкуса не успевали ощутить. Но еще хуже было с водой. Во дворе был выкопан маленький прудик, во время дождя он наполнялся водой, вот ее мы и пили. Болели и умирали в бараке часто. Как только человек заболевал, сразу обращались к инспектору. За больным приезжала машина, больше этого человека никто не видел.
Человек и правда ко всему привыкает. Через какое-то время колючая проволока вокруг лагеря нас уже не пугала: ее можно было отогнуть и выйти наружу. Мы с мамой ходили собирать очистки, их сушили на железном листе, перетирали и потом в сарайчике пекли лепешки. Многих забирали на работы. Кто-то убирал хлеб и приносил за пазухой зерно, его парили и варили. Или картошки принесут, выживали, как могли. С нами был один парень из Онегино Анатолий Баринов. Ему было пятнадцать, но по уму он опережал взрослых мужчин. С ребятами он быстро научился убегать из лагеря. Не знаю, куда они ходили, где лазили, но приносили худые ведра, какие-то железки, из них сооружали печурки, на которых готовили еду. Я из всех ребятишек выделялась рваной одеждой. Заработать мы никак не могли, мама была уже в возрасте, и ее никто не хотел брать. Анатолий принес как-то старых платьев, и сказал маме:
— Семеновна, сшей Тамарке обнову, что она у тебя такая драная, глянуть страшно.
Скоро я щеголяла в длинном до пят платье.
Анатолий посмотрел на меня, взял нож, обрезал подол сантиметров на десять и кивнул довольно: хорошо.
Как-то в барак пришла немка, ей была нужна девочка для помощи по хозяйству, ей предложили меня. Так я оказалась в услужении. Немка привела меня домой, выкупала, принесла старые вещи своих дочерей, маечку, трусики, платьице, чулочки, все-все, переодела меня.
— Как тебя зовут?
— Тамара.
Но ей мое имя, видать, показалось ей сложным, и она звала меня Ниной.
Полтора года я проработала на немку, и до сих пор в сердце храню к ней благодарность. Работала я много, мыла полы, посуду. Бывало, соберу после обеда чашки, а они будто вылизанные, ни крошечки, ни кусочка хлеба не оставалось. Зато когда наступало время варить варенье, тут я отъедалась различными фруктами. Вечером мне наливали горшочек супа, и я возвращалась в лагерь. А там уже Лена с Таней по окнам пляшут, меня высматривают, ждут, когда я им еду принесу.
В мои обязанности входило носить котелки с супом двум овчаркам, которые помогали пастухам пасти овец, у немки было большое стадо. Как-то я сказала маме: «До чего хорош суп я ношу собакам, пахнет вкусно».— «Чего ж ты его не ешь?» — «Как? У меня и ложки то нет». — «А ты ладонью хлебай, да смотри, чтоб хозяйка не видела, а то рассердится и прогонит тебя».
Но пришел день, когда никого не погнали на работу, не появлялся инспектор, которого все очень боялись. Сколько челюстей, носов, рук он переломал, зубов выбил. А жена у него была доброй, заботливой, ее любили. Я пошла к немке, у нее были собраны чемоданы.
— Нина, ничего не надо,— она вяло махнула рукой, — уходи.
А в небе гул самолетов. Двери лагеря оказались распахнуты, мы выбежали на улицу и увидели наших, ехавших на танках. Первый же танк смел ограду, как паутинку смахнул. Солдаты к нам бегут, кричат:
— Вы не бойтесь!
Да мы ни капли и не боялись, плакали. В мае уже вернулись в Онегино. Дома были целы, но ни окон, ни дверей не было. На нашем огородике росла картошка, ее посадили мой брат и мачеха. Из Прогресса на себе мешки носили.
Осенью я пошла в первый класс, лет мне было уже порядочно. Малыши сидели в одном классе с переростками. Но мы не стеснялись, такую войну пережили, что о возрасте горевать.
Когда мне исполнилось шестнадцать лет, мама сказала:
— Я тебя долго кормила, теперь иди работать, сама меня кормить будешь.
С тех пор я трудилась в колхозе, выполняла любую работу, тяжело, плохо ли, знала, что надо. Сейчас проживаю в с. Александровка. С мужем уже 53 года вместе, двух дочерей вырастили. Все житейские неурядицы преодолевали. Те, кто знает, что такое война, по-особенному ценит мирную жизнь.
Маша Никитушкина
Фото автора