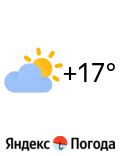Раскулаченные
Много в нашей истории творилось плохого не только оттого, что власть была дурна, но также из зависти, прямой ненависти тех, кто живет рядом, попросту — от людской злобы. Извечное русское желание — у меня нет, пусть и у тебя не будет — толкало на преступление, тем более что расплаты за него не было, а совесть, если и подавала свой слабый голосок, то его нельзя расслышать в буре страстей и классовой непримиримости.
— Наша семья в с. Протасово считалась зажиточной, — рассказывает Анна Тимофеевна Крючкова, — как же: мельница, молотилка, лошадь, корова. Но мельницу с молотилкой дед своими руками сделал, плотник он был замечательный. И ослеп на один глаз из-за того, что щепка попала. И отец трудяга был редкий. Как ветер поднимется, ночь — полночь, будит мать — работать пора. И пока ветер не прекратиться, они на ногах, рубаха на плечах прела — поменять некогда было. Конечно, многие хуже нас жили, мы хотя бы ели досыта. У нас, у «кулаков», на семь ребятишек ни одних валенок не было, потому как овец из-за недостатка земли мы не водили. Зимой довольствовались лаптями, а с весны до поздней осени бегали босиком. Все равно позавидовали. И кто? Крестный одного из моих братьев. Он с соседским мужиком написал донос. Раскулачили нас, отобрали все подчистую, даже картошку из погреба выгребли, не посмотрели, что зима на носу. Бросили на произвол судьбы, выживайте, как знаете, а помрете, плакать никто не станет. Деда не тронули, хотя конфискованное хозяйство принадлежало ему, кому он нужен был, старик, а отца посадили. Нас поселили в кухоньке нашего же нового дома, (еще одна заноза в глазах крестного), а в большой комнате, с настеленными полами разместился сельсовет. Но мы мешали в своем доме и скоро нас подселили к таким же «кулакам», как и мы. Жили в страшной тесноте и нужде. Мать нанималась батрачить. Зарабатывала муку, картошку. Работала на станции на разгрузке вагонов, как мужик мешки на себе таскала. По целой неделе там жила, за нами смотрел старый дедушка. Мать уходя, бывало, скажет:
— Деточки, если утром дедушка не проснется, значит, он умер, пусть тогда кто— нибудь за мной прибежит.
Осенью, подбирая картошку людям, мать зарабатывала для нас «второй хлеб» на весь год. Экономия была строжайшая. В день на каждого выделялось по одной картофелине. Ведь нужно было еще насушить картофеля, чтобы отослать отцу в тюрьму. По всем законам выживания, мы должны были умереть с голоду. Но будто Ангел-хранитель заботился о нас, мы даже ничем не болели, и простуда не брала. Весной переходили на подножный корм: крапиву, щавель, а если соседи со своего огородика нарвут лучку, свекольной ботвы или капустных листьев — это была настоящая радость. Самое жестокое со стороны власти было лишить нас огородика, с ним бы мы не голодали. Собирали мерзлую картошку, колоски и все это украдкой, тайком.
В нашем селе было поверье: можно весь год нищим не подавать, а на Пасху троих одарить нужно обязательно. И вот, перед самым главным праздником в году, мать пошла с мешком по деревне, да и то, не во все дома заходила, а только туда, где знала, что ее пожалеют. Люди боялись нам помогать, если и сунут кусок, то так, чтобы никто не видел.
Прошло несколько лет, из тюрьмы вернулся отец, и сразу наша жизнь стала легче. Отец устроился на работу, взялся строить дом. Мать его просила:
— Тимофей, уедем в другую деревню, не дадут нам здесь житья.
Но отец уперся:
— Я не вор, не убийца, почему я должен прятаться, хочу жить на родине.
Не дали. На колхозном собрании шел разговор о займе, а после него, активисты написали донос, что отец сорвал собрание. Да кому там срывать! Отец всегда был тихий, незлобивый, а после тюрьмы и вообще вел себя тише воды, ниже травы.
Как его забирали второй раз, я помню хорошо. Милиционеры уводят, а я бегу сзади в одной рубашонке (уже спать мы ложились) и кричу:
— Папа, папочка!
Больше мы отца не видели. Канул он, как ключик в воду. Только после войны получили от него письмо: «Напишите, кто остался жив».
Я написала, ответа не получила, так и прервалась связь с отцом.
То, что мы раскулаченные, ощущали на себе каждый день, особенно в школе. Учились лучше многих, а похвалы никогда не получали. Все ребята написали заявление на вступление в комсомол, и я тоже, разве хуже других, думаю. Их приняли, меня — нет. До сих пор помню ту обиду. Мы, школьники, летом помогали колхозу, денег не получали, но в конце уборочной для всех накрывали стол, приглашали и колхозников, и ребятишек. Нас не звали никогда. Выходит, труд наш был нужен, а мы сами — нет.
Голод доводил до того, что мы сами шли побираться. В соседней деревне был престольный праздник. Мать дала нам с братом мешки:
— Там люди добрые, молельные, идите, подадут вам хлебушка.
Мы побежали радостно. А дошли до места и испугались. Как идти? Ведь в каждом доме живут ученики из нашей школы, а потом они расскажут учителям, одноклассникам. Долго мы с братом перепирались, кому первому идти, потом подрались пустыми мешками, разревелись и поплелись домой. Мать только вздохнула:
— Эх, вы…
Война списала все долги. Двое моих братьев погибли на фронте, мы уже не считались семьей кулака. Работать в колхозе было некому: малолетки да старики. Меня выбрали бригадиром.
После войны в соседнюю деревню из тюрьмы вернулся раскулаченный. Мама бегала к нему, узнать, каково ему приходилось.
— Тебе с семью детьми тяжелей было, — сказал мужчина, — твой муж выработает норму, и свою похлебку, пусть жидкую, но получит. А ты жилы тянула.
Много лет прошло, нас реабилитировали, даже деньги вернули за отнятое имущество. Правда, копейки это были. А кто может оплатить разбитую жизнь матери, отца, наше безрадостное голодное детство. И какими деньгами все это измерить? Ну, а мы, словно назло судьбе, все выросли, вышли в люди, мама дожила до почтенного возраста. И совесть наша чиста была, никого мы не предавали, доносов не писали. Честно прожить — это тоже что-то, да значит.
Е. Мусатова
Опубликовано в газете «Город Орел»