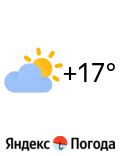«Отчего так в России берёзы шумят…»
Летнее утро. Ещё очень-очень рано. Но комната так залита светом, что стол, накрытый жёлтой, бархатной скатертью, похож на огромное солнце.
Тут и там слышится запоздавшее пение, стараются изо всех сил.
— Да что ж это такое? Почти уже летела, разбежавшись, с берега…
Открываю глаза: «Ну на самом интересном месте: а-а, под окном, довольный ходит… Может и хорошо, что разбудил. Дел-то сколько!».
Перелезаю через спящую сестрёнку, жаль, но какая она мне подружка, маленькая ещё. Брат давно проснулся, на рыбалку теперь ушел, да и он мне не помощник сегодня.
Достаю со шкафа прописи и шариковую голубую ручку: решила, что буду писать по одной страничке в день, чтобы почерк, как говорят взрослые, был красивый. Пишу одну строчку, вторую…
— Нет, на сегодня хватит, некогда, ждут меня. Выбегаю из дома скорее-скорее. Вот ручей. Что это?
Совсем мало осталось: один, два, три… ну не больше десяти. Расправляю ладошки, и, ковшиком черпаю снова, захватив побольше.
— Такие красивые, глазки выпуклые, как перламутровые пуговицы на ножках. Из глины делаю ограждение, вдруг опять съедят утки. Конечно, съедят! Домой их надо!
Прибегаю, беру со штакетника банку, нет побольше, вот трёхлитровая подойдет, и назад.
Вода плескается через край, как им там хорошо! Ставлю банку на стол в кухне. Нет, надо посередине: света больше. А если кот? Крышкой накрою — задохнутся! Буду сторожить, не отходить. А как же кубаны? Те стояли вдоль стенки, на полу, дожидались. Мою их каждый день — это моя обязанность, и тарелки. Но тарелок пока нет.
— Ах, а что они будут кушать? Чем же питаются? Не вырастут… Наверное, такими маленькими копеечками зелёными, что плавают на ниточках.
Бегу опять на ручей. Набираю горсть этой каши, быстрее-быстрее! Цепляюсь за корень, выступающий прямо из глиняных ступенек, сделанных моим папой, чтобы лучше было подниматься. Это корень берёзы. А сама она растет, нагнувшись, прямо над ручьем, так что весной, когда распускаются серёжки, они плещутся в воде и смотрятся туда, как в зеркало.
— Как же она не упадёт?
Подхожу к дому: всё вымыто, развешено, глиняные бока аж блестят.
Осторожненько открываю дверь. Неужели тоже? Нет. Стоит. Облегченно вздыхаю. Это бабушка Паша пришла из Каменки нас проведать и уже хлопочет у плиты.
— С рыбками?
— Головастики…
— Зачем они тебе?
— Смотреть буду, как вырастут у них лапки.
— Ну-ну, смотри, только убери со стола, пирожки будем лепить.
— А с чем?
— С конфетами. И достает из сумки большой кулёк из хрустящей бумаги. — Настя разных наложила.
Ждём, сидим рядком: я, Лида с котенком на руках и Володя — чистит карасиков. Одного с удовольствием доедает кот, а моих головастиков, уже не шевелящихся, петушок: «Может так рано не будет ходить под окном?»
— У-у, какие румяные!
Некоторые лопнули, а на них горячий сладкий сироп, стекающий по зажаристым бочкам. Откусываешь и не знаешь с чем.
— У меня с малиной.
— А у меня с клубникой.
— У меня со сливой.
И запиваем молоком. Здорово, когда есть две бабушки. Одна учит шить, другая вкусно готовить. Как жаль, что нет дедушек. Мы знаем, что они погибли, не вернулись с войны. О них мало что говорят. Почему? Ответ на этот вопрос я узнала много-много позже. Это была такая глубокая рана и у одной, и у другой. И не заживала она всю жизнь. И шевелить её лишний раз не хотелось ни им, ни их детям.
А поговорить об этом по душам бабушка Паша могла только с Валей Толкуновой. Когда звучал из приемника её неповторимый, удивляющий своей глубиной голос, такой родной, то ей казалось, что она поёт про неё, про её судьбу:
Ещё до встречи вышла нам разлука, Но всё же о тебе я вижу сны, Но разве мы прожили б друг без друга, Мой милый, если б не было войны.
Бабуля, бросив все дела, садилась слушать, и проживала как бы всё вновь, сначала…
… Утопающая в зелени так, что не видно домов, деревня Фёдоровка. И сирень, в каждом дворе сирень, и всё в сиреневой дымке. Вот в таком живописном месте родилась у молодых третья дочка, за год до войны. Назвали Аней, а папа ласкова звал Нюрочкой.
— Как хорошо, три дочки — три помощницы, ничего, — говорил Василий молодой жене, — и сын у нас ещё будет.
 Жить бы им да жить, но не довелось ему дождаться сына. Ушёл на фронт, как раз, когда гремела Орловско-курская битва. Сначала были от него письма, а потом в марте домой прилетело только три слова «Пропал без вести». Как было понять это тогда, почти девчонке — Прасковье?
Жить бы им да жить, но не довелось ему дождаться сына. Ушёл на фронт, как раз, когда гремела Орловско-курская битва. Сначала были от него письма, а потом в марте домой прилетело только три слова «Пропал без вести». Как было понять это тогда, почти девчонке — Прасковье?
— Погиб? Так нет, вот же — без вести… А может живой?
И украдкой, ночью, вешала глиняный кувшин на штакетник, раскручивала его и ждала, когда он остановится, приговаривая: «Васька, Васька, ты жив?» В гадания эти совершенно не верила, но где-то далеко, в глубине, в тайне даже от себя, надеялась: «А вдруг кувшин зазвенит? Тогда жив Васька и ждать легче».
Но легче не стало — муж с войны не вернулся. Оставшись одна с тремя детьми, замуж больше не выходила. Поднимала дочек одна, работая от зари до зари, чтобы не голодали, а в доме было тепло.
И снова ты протягиваешь руки, Зовёшь из невозвратной стороны, Уже б ходили в школу наши внуки…
— Ходят, Вася, ходят, их у тебя тринадцать. Выросли твои дочки. Старалась я, как могла…
Никто калитку стуком не откроет И глохну я от этой тишины… Песня давно закончилась, а она всё сидела и сидела, глядя куда-то мимо, далеко-далеко…
— Где ж ты есть? Погиб. Где? Где похоронен? Может, где воевал? Ведь совсем недалеко от Малоархангельска, всего-то тридцать километров от дома. Почти у самой дороги стоит теперь там памятник.
Раньше с родителями, а теперь уже со своими семьями, приезжаем туда каждое лето, и ни приехать мы уже не можем. Ещё издалека виден вечный огонь, то горит одним мощным пламенем, то разъединившись в несколько, с силой сходится опять вместе.
Как-то немного не по себе, тревожно: здесь, прямо вот здесь проходила Орловско-курская дуга. Но когда вас встречают величаво, гордо молчаливые голубые ели, охраняющие тишину этого места, становится намного спокойнее. И хочется самим расправить плечи и спину поровней держать, разговаривать потише, как бы вслушиваясь. А послушать и посмотреть есть что: большая площадь, по двум сторонам которой мраморные плиты с сотням имён, есть даже свежевыбитые. Их, может быть, ищут родные?
Каждый раз, бывая здесь, моя мама долго читала списки и, не найдя в них своего отца, качала головой: «Нет Якушина Василия…»
Но как же не поклониться местам, где он сражался, отвоёвывая сантиметр за сантиметром родную землю? С кем был? Что вспоминал? О чём думал?
… В окопе сыро о мокрого снега вперемешку с землей. Прислонившись повыше, где грязи было меньше, Василий снял рукавицы, пусть хоть немного обсохнут. Рядом дремал его товарищ — молодой, почти ровесник, парень с Украины. Чуть поодаль росла берёзка, отделяясь от лесополосы, почему-то вкривь, почти касаясь оврага и держалась одними корнями.
— Эх, и корни мы ей подкопали, не выживет теперь. Постучал по столу — зазвенела.
— Нет, крепенькая ещё, раз морозы такие выдержала.
Вдали виднелась деревушка, не то что огней не было, даже собаки не лаяли, значит люди ушли. Хорошо, а то завтра здесь всё сравняется с землей. Небо то и дело озарялось вспышками ракет.
— Как там мои?
От бессонных ночей глаза слипались, веки становились всё тяжелее и тяжелее. Показалось, что открывает он свою калитку: «Скрипит — надо подправить». Почему-то уже весна, яблони в бело-розовом тумане. Отец сидит на порожках, костыль рядом. А девчонки, его милые девчонки, бегают, в догонялки играют. Жена Параша, опрокинув плетёный кузов, накрывает его скатёркой, ставит чугунок с дымящейся куриной лапшой, как всегда делала в воскресенье, ещё до войны. И все уже сидят за этим столом на свежем, весеннем воздухе, а в руке у него большая коврижка хлеба, ещё теплого… Но кто-то толкает под руку, и он роняет его.
— Нет, нет, нельзя, нужно поднять, — тянется за ним и не достает!
— Вась, Вась! Началось!
Это был его последний бой. Не увидит он больше своих дочек, жену. Взрослеть, учиться, выходить замуж — всё будет без него. И они не будут знать ничего больше о нём с этого дня.
А как хотелось младшей дочери, приехав домой, сказать своей матери одно слово: «Нашёлся…»
С высокого постамента смотрят зорко вдаль сапёры, готовящиеся к атаке, с противотанковыми минами в руках: им нет дороги назад! А врагу нет дороги вперёд! У подножия цветы, всегда цветы и венки.
А вокруг, и сзади, и по бокам стоят мощной, несгибающейся стеной, как те солдаты, идущие в наступление, белоствольные берёзы, и старые, и молодые, и совсем зелёная поросль. Поскрипывая, качают они своим зелёным покрывалом, крепко держат оборону от ветра, палящего зноя и от проливного дождя. Как могут, теперь они защищают покой тысячи лежащих здесь героев, известных и неизвестных. Но их всех ждали дома.
А вы, шумите, шумите над ними берёзы. Вы ведь всё понимаете…
Сегодня мы здесь не одни. Из подъехавшей машины вышла семья: старенькая женщина, пожилой мужчина и молодая пара с ребёнком. Поддерживая, скорее всего, мать, сын подвёл её к мемориальной стене. Отыскав фамилию, помог присесть. Она всё гладила, гладила сухонькой рукой каждую буковку, обводила их, и начинала сначала: «Вот мы и свиделись…» Подносила платок то и дело к глазам, но слёз уже не было — высохли. Подошла к памятнику, раскинув руки, обняла его, и обращаясь как к живым сказала: «Издалека мы, сыночки, приехали, может знаете моего Миколу?» Достав из кармашка маленький узелочек, развязала его, наклонившись, высыпала земельку под ёлку.
— Конфеток твоих любимых привезла. И разноцветные, круглые карамельки, не удержавшись на выступе, падали вниз на плиты, отскакивая и звеня, как хрустальные слезинки.
Молчали мы, молчали в эту минуту даже птицы.
Но, вдруг, как солнце пробилось сквозь чёрные тучи, зазвенел колокольчиком звонкий детский смех. Все оглянулись: девочка в воздушном платьице, с розовыми бантами в косичках, бежала за бабочкой. А та, будто играя с ней, то летела, то вновь садилась на землю: попробуй догони!
Спасибо вам, за это небо голубое-голубое, за смех, за детство…
… Слышу сквозь сон мамин голос: «Галя, вставай, вставай, в школу опоздаешь». Нехотя потягиваюсь: «Опят не досмотрела…» Но учится хочу! Это я точно знаю: много читать, а ещё писать письма всем, и дедушкам тоже, рассказать им обо всём, обо всём… Идёт урок.
— Сегодня будем описывать картину.
Открываю книжку: «Почему-то одни стволы деревьев… Видно только, что внизу они темнее, а вверху светлее. Наверное, это лес. Ну можно же им подрисовать веточки, листья». Волнуюсь очень: пишу свое первое в жизни сочинение о берёзах из трёх предложений, может ещё? Нет, учительница сказала три, и пишу четвёртое… Не знала я тогда, что захочется мне написать о них намного больше, и не только о них…
Галина Щербакова