Мария Семёновна Белоусова: всё другое, люди изменились, но ученики помнят
И вот я в гостях у Марии Семёновны. Ее памяти позавидуют и молодые. Мария Семёновна Белоусова, в девичестве Дубровская, рассказывает, а перед глазами разворачивалась история её родного села Легостаево.
 — Колхоз наш в селе Легостаево назывался «Красный забойщик», потому что почти все мужики села работали в шахте, уезжали за лучшей долей. Мой отец Семён Иванович Дубровский был коногоном, у него была лошадь, вагонетка, чтобы возить уголь. На шахте работала и мама, Надежда Александровна, когда начались волнения в 1905 г. родители сочли за лучшее вернуться в Легостаево.
— Колхоз наш в селе Легостаево назывался «Красный забойщик», потому что почти все мужики села работали в шахте, уезжали за лучшей долей. Мой отец Семён Иванович Дубровский был коногоном, у него была лошадь, вагонетка, чтобы возить уголь. На шахте работала и мама, Надежда Александровна, когда начались волнения в 1905 г. родители сочли за лучшее вернуться в Легостаево.
Сама я с 1923 г., в 30-м пошла в Легостаевскую начальную школу, ее построил Тихон Капитонович Воробьёв, он приехал к нам из Дровосечного. Школа была одноэтажной, сложена из бревен, с двумя большими классами, с настоящими партами и комнатой для учителей. Раньше детишки занимались то в одном доме, то в другом, а мой брат ходил в школу в Коротеево. Помню, там еще был большой сад с аллеями. Молодежь собиралась в саду и мы, ребятишки, бегали туда, когда начинался дождь, прятались в барском доме. А ребята постарше нас гоняли: уходите отсюда, а то не ровен час крыша обвалится. Постепенно дом разрушился.
Воробьёва скоро забрали в Малоархангельск. С пятого класса мы ходили в Упаловскую школу, что недалеко от церкви. Наши мальчишки лазили в подвал храма, что-то там находили. Упаловский Храм до сих пор стоит, век нашей легостаевской церкви был недолог, ее построили в 1901 г., а в войну уже разрушили.
В Упалом была семилетка, занимались мы в двухэтажном доме. А какая красота кругом: сады, луга, сирень цветет — в классах запах стоит. В восьмой класс я пошла уже в городе. Помню наш выпускной, приготовили букеты для учителей, радовались, что закончили школу, впереди, казалось, ждала счастливая жизнь, а по радио объявили, что началась война. Сначала мы думали, что эта ошибка, потом были уверены, что враг не пройдет далеко. Выпускной бал был грустным, играла гармонь, мы даже танцевали, но без радости.
Нас было три подруги. Все три Дубровские и Марии, мы и жили рядом. Готовились вместе к поступлению в институт, не думали, что война долго продлится. Ведь воспитаны были, что страна наша самая сильная, что самые лучшие самолеты и танки у нас. Потом брат Василий рассказал, какие у нас самолеты — фанерные. Он был летчиком и погиб в 42-м году — не вернулся из ночного боя.
Прошло два с половиной месяца и девятнадцатого ноября 41-го года в наше село на мотоциклах приехали немцы, и сразу по домам. К нам тоже пришли, начали хозяйничать. Наша хата была перегорожена на две половины, они в одной, мы в другой. Немцы нашими тряпками побрезговали, не стали на них спать, соломы принесли, а трехлитровая банка варенья в шкафу стояла, так слопали, не погнушались. Утром они уехали, следом приехали немцы на лошадях. Эти тоже пробыли недолго, а зимой нас так занесло снегом, да и дорога далеко, что больше к нам никто не приезжал.
В оккупации у нас в селе жила женщина, её звали Арменуи, она была то ли армянка, то ли азербайджанка, красивая. Ее муж приехал в Малоархангельск в педучилище на смену моему брату Петру Семёновичу Дубровскому, которого забрали на фронт, но тоже был призван в армию. Арменуи с тремя детьми не знала куда податься. Моя невестка с ней познакомилась и говорит: поехали в Легостаево, там у меня свёкор. Но у невестки-то свёкор, а у той никого. Семья у нас была большая и принять женщину с тремя детьми мы никак не могли. У отца были ключи от пустой хаты. Там и печка русская и всё. Арменуи начала жить в хате. Ребятишек посадила на печку, топила ее, с собой женщина привезла много мануфактуры и меняла куски ткани на продукты. И за шестнадцать месяцев оккупации ни один немец её не видел. Так и осталась в нашем селе. Она работала агрономом, ругалась, бывало, на мужиков, что плохо сеяли, плохо веяли, но все равно Елену Михайловну, так мы ее называли, любили.
В оккупации у нас было уже заведено: утро наступило: кур в коробку, гусей попрячем. За провизией приезжал немец, мы его звали Жорка, он был незлой, всегда пьяненький, с винтовкой. По хатам не ходил, принесут ему корм для лошадей, он и уезжал. Освободили нас второго февраля 43-го.
Немцы нас не мучили, мы сами себя мучили. На станцию вещи ходили менять. Там у людей была соль, вот мы и меняли вещички на соль. Как-то иду домой, а соль бьет по спине, точно кирпич, а я думаю: камней они для весу положили что ли? Продукты — картошка, свёкла у нас были, только несолеными их есть не станешь, десны у всех болели. Ощущалась и нехватка керосина.
В Легостаево немцы расстреляли двоих: Николая Петровича Легостаева и Афанасия Пыхтина. Мы долго думали за что, почему, но ответа не находили. Николай Петрович был партийный, но не воевал из-за инвалидности, а Пыхтин — простой колхозник. Так мы и не узнали, кто на них донес.
Школу во время войны немцы разорили, бревна вывезли, и после освобождения села дети учились у бабушек на квартире. Устроиться учительницей я не могла — не было места, а военруком меня взяли, за 35 руб. в месяц. Тогда военной подготовке уделяли большое внимание, я была очень спортивная, поэтому согласилась. Каждый месяц районный военкомат вызывал нас на учёбу. Мы с подружкой Марией Дубровской, она тоже была военруком, ходили в город. Дошагаем, бывало, до Плотки, водички из колодца попьем, и опять в путь. Нас с Машей направляли в г. Тим Курской области на курсы НВП. Народу там было пропасть, и все женщины. Они предусмотрительно захватили с собой теплое бельё. А мы с Марусей в тапочках, сарафанчиках, платочках, зато с винтовками. Теплое бельё, к счастью, не потребовалось, а то не знаю, чтобы мы с Марусей делали. Мы жили в школе, спали на полу, кормили нас как солдат. Домой вернулась — мать не узнала. На сборах мы получали пайку хлеба, суп на обед, стакан чая, на ужин кашу перловую. Посуды не было, у каждой — консервная баночка с проволокой вместо ручки, с ней мы подходили к повару. Каша перловая мне в горло не лезла, жесткая, невкусная. У нас была строевая, огневая, политическая и санитарная подготовка. Во всем я отличалась, но огневую подготовку на пятерку никак сдать не могла: в мишень не попадала. Росточку я была невысокого, худенькая. Командир раз глянул на меня и говорит:
— И что этот ребенок здесь мучается?
— Надо, — отвечаю я.
— Так веди всех в казарму.
А я не знала, как команды отдавать.
Но девчонки не подвели, запели песню и зашагали в казарму. На сборах мы пробыли месяц, домой возвращались пешком. А как еще? Винтовки тащим, устали. Дошли до Легостаево, до мельницы, началась гроза. Мы с Марусей перепугались: притянут винтовки молнии, поубивает нас. Утром пришли в военкомат, отдали справки об окончании курсов. Когда закончилась война, военное дело в начальных классах перестали преподавать. А ребятишки его очень любили, шагали строем, перестраивались из шеренги в колонну, с удовольствием играли в военные игры. Инструктор из военкомата, проверявший меня, всегда был доволен.
Мне нужно было получить педагогическое образование, я поехала в Рыльск в педучилище. И встретила там мужа Арменуи, с фронта он домой не вернулся, и мы думали, что он погиб. Оказывается, он хорошо и сытно жил, вот только за какие-то махинации его выгнали из директоров училища. Мне хотелось спросить: как вы живете, зная, что есть жена с тремя детьми, и не поинтересуетесь, как она, что с ней. Но не посмела. Арменуи потом уехала от нас, и как сложилась ее дальнейшая судьба, мне неизвестно.
Замуж я вышла в Коротеево, а работала в Легостаево. Дочка Таня была совсем маленькой и чтобы каждый день не бегать туда-сюда я устроилась на квартиру к техничке Жилиной Пелагее Дмитриевне. А у нее и ребята, и козлята — все в одной хате. Она с четырьмя ребятишками на печке, а я с дочкой у печки на кровати. Я работала во вторую смену: вот сколько детишек в школе было! С утра Пелагея торф наносит, чтоб печи в школе топить, а после обеда сидит с ребятишками. Так мы друг друга выручали. Еще у меня есть сын Николай, у него сейчас и живу, и четверо внуков.
Мой брат Егор воевал на финской, там стал инвалидом, у него что-то было с ногами. Егор постоянно носил валенки. Когда немцы пришли, то пытались отнять у него валенки, сдернут, глянут на ноги, и в лицо ему валенки бросят, или по спине стукнут. Как Егор ждал прихода наших войск, так радовался, если попадала в руки листовка. По многу раз ее перечитывал, нам давал читать. Ну и дождался. Пришли наши и забрали его, выдали портянки, ботинки, а Егор говорит: «Вы что мне даете, я не могу это носить». А ему сразу: враг народа и десять лет Егор отсидел, вернулся, пошёл в дом инвалидов. Я его к себе забрать не могла. Свекровь так и сказала: мы тебя одну брали, без брата. В доме инвалидов Егор работал, умер рано.
В конце марта, после освобождения Малоархангельска, мы ходили рыть окопы. Шли пешком, с лопатами, снег на полях подтаял, и мы видели торчащие руки, ноги.
Когда брат Василий, летчик, погиб на фронте, отец хотел выхлопотать пенсию, но председатель сразу сказал: не положено. Отец возмущался: тем положено, а мне нет.
— А пускай тебя дочь кормит, — сказал председатель.
— Да разве она корова, я ее на базар продавать поведу что ли. Вон у того тоже есть дочери, а пенсию получает.
— А тебе все равно не положено.
Так и остались мы ни с чем. Много позже я увидела акт обследования нашей хаты, который и сыграл решающую роль. Про то, что в доме пять окон — написали, а что он из глины и крыша соломенная не упомянули. Я расплакалась, когда увидела этот акт. Ведь мы тяжело жили, и даже маленькую пенсию не могли получать.
Мы, учителя, ходили по деревням, уговаривали жителей, чтоб они подписывались на займ. А что толку уговаривать, если придешь в хату, а в ней ничего нет, одни ребятишки. Крестьянам очень трудно пришлось: яйца, мясо, шерсть овечью — всё сдавай.
В школе после войны учились в три смены, третья была для взрослых. Прибыл к нам директором Семен Алистарович Одинцов, фронтовик, он и строил школу. Наши места до того красивы, что инспектор Тубольцева из РОНО, после сокращения приехала работать в нашу школу.
Я тридцать семь лет проработала в школе, всех ребятишек нашего села переучила. В школе была очень благоприятная атмосфера. Мы все дружили, поддерживали друг друга, концерты готовили. Хорошо, что нынешние ребятишки собирают историю села, и ко мне приходили. Про горелую мельницу расспрашивали. В том месте, где стояла мельница, был поселок Горелый, домов двадцать, наверное. Мельничиху звали Мария, а Горельчихой стали называть после того, как первая мельница сгорела. Дело у Марии было поставлено хорошо, специальный человек следил за прудом, вовремя открывал и закрывал заставы, весной сваи подготавливал. На мельнице мололи рожь, из гречихи получали крупу, из проса — пшено. Еще была толчея: в больших чанах обрабатывали полотна из овечьей шерсти. Складывали в чаны полотно и толкли толкачами, из этого полотна потом шили зипуны, онучи. Дочери Марии катались по пруду в лодке, которую застилали ковром. Сама Горельчиха была добропорядочной, никого не обижала. В селе шел разговор, что на нее напали из банды Жердова. Теперь поселка Горелый нет, и пруда не осталось.
Та жизнь, которую я знала и любила, ушла. Всё другое, и люди изменились. А ученики мои бывшие до сих пор меня помнят, разве это не радость для учителя?
Маша Никитушкина
Фото автора и из архива М. С. Белоусовой


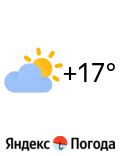

Мы, бывшие ученики, действительно не забываем Марию Семёновну. Мне запомнились экскурсии, походы, в которые она нас водила. И хотя мы учились во вторую смену, побывали и в зимнем лесу, в осеннем, и в весеннем. Класс был большой, почти тридцать человек, и как-то мы ходили в Плотавский лес. Нужно было переходить речку Дайменка, Мария Семёновна за нами смотрела, чтоб не оступились. Заходили мы и в посёлок Заречка, по другому его звали Горелый. Мы, ученики, попили воды в крайнем доме, а Мария Семёновна с хозяйками о чём-то разговаривала. А потом мы пошли в лес и гуляли там. С каждым ребёнком Мария Семёновна умела поговорить, а рассказы читала так, что они западали в душу. Действительно, замечательный учитель. Она отдавала нам доброту, душевное тепло. Мы Вас помним и любим, Мария Семёновна!