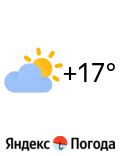Яклич
Дмитрий Яклич, как теперь кажется, был еврей. А, собственно, кем он ещё мог быть с его оспяным лицом, мясистым носом, редкой для сельской местности профессией сапожника и сухой ногой, которая была согнута в колене, и всё-то он её в костылик втыкал, как ни остановится. Водил Дмитрий Яковлевич пару куриц, на День Победы держал в руке открытку — видимо, официально числился в тех, кто приближал победу. Получал пенсию и служил даже, как теперь видится, охранником Сберкассы, хотя пользы от его охраны вряд ли могло быть много с его-то ногой.
Была у Яклича где-то в Новосибирске дочь, о которой он неохотно рассказывал, что вот, мол, да, дочь есть, но она в Новосибирске и пишет поэтому — редко. А тогда такое время было вообще-то, что письма писали, и дочь, даже если она в Новосибирске, тоже могла письмо прислать, но не присылала почему-то. А раз была дочь, то и жена, значит, присутствовала у Яклича в жизненном его пути. И вот как он её повстречал, и как цветы ей носил на костылях своих, поджав ногу — это и вовсе в ум взять трудно. А ведь носил, носил — все носили. И дочь ведь как-то появилась, значит — носил.
Иногда дочь в рассказах переезжала в Москву, но ненадолго. Чаще всё-таки упоминался Новосибирск.
Дмитрий Яклич однажды чинил мне сандалик, я прекрасно помню, как он свою баночку железную открыл, а оттуда пахнуло смолой и мёдом. И нитки суровые у него в этой баночке всякие лежали, и выбрал он для моих сандаликов — белые, а я ещё подумал, что цвет неподходящий. Но Дмитрий Яклич их поводил по черному брусочку, и стали нитки нужного цвета. И не только цвет поменяли, ещё, как я теперь понимаю, набрались водонепроницаемых свойств. Шилом — раз, раз, и готово дело. Протянул сандалик, и улыбнулся, и я подумал тогда, что, наверное, я и сам бы смог так шилом орудовать ловко, но со временем, конечно. А Дмитрий Яклич — он уже умел, и это все знали. И денег вроде не брал за это своё умение — это считалось ведь делом обыкновенным. Ну сандалик, ну зашил. Наверное, мать потом рюмочку поднесла, а может, и нет — он ведь не пил, Дмитрий Яклич. Ну, видимо, он и действительно был еврей, по всем признакам так выходит.
И жил он себе и жил при своей сберкассе, а потом — умер. А я в это время был в армии, и знаю о похоронах только по рассказам. А рассказы эти неизменно оканчивался словами «и смех и грех». И причем неважно кто рассказывал — я слышал от троих человек, и всё равно заканчивалось одинаково — «и смех, мол, и грех». А дело вот как было.
Яклич умер во сне. И когда начали его родственников искать, оказалось, что Новосибирского телефона дочери нет, а письмо писать в Новосибирск неуместно. Потому что ведь лето, и покойник ждать не станет. Письмо, однако, составили — чисто информативного плана, что так, мол, и так, и куда-то даже послали. Сколотили гроб, положили туда Яклича. Могилу забесплатно отрыли. И в положенный срок понесли на кладбище на руках.
А тут надо отметить, что способов доставки на кладбище, как известно, водится два: на руках и на машине. Раньше по крайней мере так было. И вот если умирал человек дорогой, то его, не считаясь с расстоянием, несли от дома на руках. И потом так и говорили: мол, на руках несли всю дорогу. И что, мол, венков море, и все плакали. И оркестр.
А Яклич — он ведь практически напротив кладбища жил, метров триста всего и пронести было. Поэтому насчёт машины даже и мыслей ни у кого не возникло, все и так прекрасно расстояние видели. И оркестр ни к чему. Вынесли из дома, два раза для приличия на табуретки поставили, вот и весь последний путь. Венки вот были — от правления колхоза и «от близких и друзей», хотя друзей у Яклича я и не припомню. А только по всем рассказам выходило, что как-то все сблизились тогда, и споров, кому и что делать, не возникало. Делали, что надо, вот и всё.
И вот уже на кладбище стали гроб закрывать крышкой. А он не закрывается. Потому что нога у Яклича торчит наружу полусогнутая. И тогда Сашка (он умрет пятью годами позже) со словами «Ну, Яклич, ты уж извини…» навалился на эту ногу, и стал её распрямлять. И распрямил, вот что. С треском, бормоча что-то под нос. А люди кругом стояли — много людей, как ни странно, — и улыбку прятали в уголках губ, потому что это очень смешно выглядело. И вроде грустное мероприятие, а смешно. Закрыли-таки, опустили гроб, засыпали землёй, помянули, вот и вся история.
Вся, да не вся. Это было ведь много лет назад. И у меня ведь в голове много уже всяких историй скопилось — и смешных, и поучительных, и необычных. И все они по какому-то случаю всплывают, и я знаю, что с ними надо делать, и какими словами рассказывать, и где акцент поставить, и где — пауза предполагается. А вот этой истории никакого применения нет практического, но ведь зачем-то она у меня внутри сидит, и зачем-то же я её помню. Вот там, вначале, я упоминаю, что Яклич был еврей, и должен бы был закольцевать, а ведь нет. Не закольцую. Ну и был, ну и что. Пару раз пытался фамилию его узнать. А фамилии никто и не помнит. Яклич и Яклич. Нога у него ещё торчала. И умер, а когда хоронили — и смех, и грех — ногу выпрямили.
В доме, где жил Яклич, теперь магазин, и ничего не напоминает о том, что когда-то здесь была сберкасса, жил Яклич, а в кладовке на веранде у него была баночка, из которой пахло смолой и мёдом.